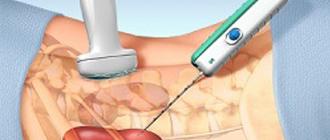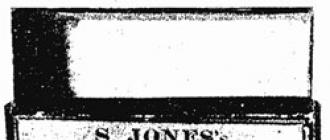Воспоминания очевидцев о войне в немецких концлагерях. Помни имя свое! (воспоминания узницы концлагеря Освенцим). – А деревни – это отделения какие-то
Я БЫЛ № 99176
Анатолий Ванукевич
Воспоминания бывшего малолетнего узника фашистских лагерей смерти Освенцим (Аушвиц), Гроссрозен и Нордхаузен
Я думаю, в моей жизни наступил самый ответственный период. Размышляя о прожитом и оценивая почти 53 года «сверхплановой», подаренной мне судьбой жизни, я прихожу к мысли, что годы после 11 апреля 1945 год были для меня временем хорошей, интенсивной, порой нелегкой жизненной школы.
В конце 1942 года в возрасте 12 лет после гибели родителей я остался совершенно один, и в течение последующих лет, особенно с 1942 по 1945 годы, сама жизнь учила меня жить и добиваться маленьких, но важных побед. Уже в те годы, пытаясь оценить ту или иную ситуацию, я доискивался до истины и думал: почему мир устроен так, что есть победители и побежденные, есть угнетенные и порабощенные, есть мародеры, убийцы, головорезы в фуражках с эмблемой в виде человеческих черепа и костей?.. Тогда я не находил ответа на эти вопросы.
Фашизм как чудовищная чума XX века зародился во вполне цивилизованной стране Европы – Германии. Гитлер, придя к власти в январе 1933 года, смог осуществить свои кровавые планы из-за разобщенности и нерешительности ведущих стран мира того времени. Главы правительств Англии, CCCР, США проводили выжидательную политику. И только захват нацистами большей части Европы, в том числе и бывшего СССР, побудил вышеназванную троицу создать в 1942-1943 годах антигитлеровскую коалицию. В итоге она разгромила фашизм только в 1945-м, заплатив при этом огромными человеческими потерям и – миллионами жизней и еще очень многим.
Мысли об этом неоднократно побуждали меня еще и еще раз оценивать увиденное и пережитое в годы второй мировой войны. В продолжение этих тяжелейших лет я мечтал об одном: во что бы то ни стало выжить и рассказать людям о том страшном, очевидцем и участником которого я был.
Я видел, с какой жестокостью уничтожали целый народ только за то, что его представителям суждено было родиться на свет евреями. Были и в прошлом экзекуции и погромы, но Гитлер превзошел все злодеяния минувшего. Решение так называемого «еврейского вопроса» он рассматривал как основную цель своей жизни, о которой он официально известил мир в своем «труде» «Майн кампф» («Моя борьба») еще в середине 30-х годов.
Есть вещи и деяния, которые человечество никогда не сможет забыть, никогда не сможет простить. Это – фашизм 30–40-х годов. Пройдут годы, века, а цивилизация снова и снова будет обращаться к прошлому. История не знает будущего без прошлого. И сейчас, спустя более полувека после Катастрофы, человечество все еще не утрачивает ощущения, что в истории XX века остаются «белые пятна». Кто как не мы может и обязан поведать правду о пережитом? Кто, если не мы, расскажет молодому поколению о жизни отцов и дедов, матерей и бабушек, о частице истории самого жестокого века? Многие авторы – историки и политики, по разным причинам нам не всегда могут изложить всю правду о тех или иных событиях. Жестокая цензура прошлого и сейчас порой хозяйничает в наших умах, и мы иногда с великой осторожностью и боязнью подходим к рассказу о жизненных коллизиях прошлого. А ведь факты, как известно, упрямая вещь. И архивы еще долгие годы будут для нас источником правдивых сведений о прошлом. О чем-то можем поведать и мы, живые его свидетели.
Посетив в последние годы два всемирно известных музея, посвященных Катастрофе, – Освенцим и Яд Вашем, я утвердился в мысли, что слишком рано закрывать тему второй мировой войны. Чем глубже я изучаю опубликованные труды о ней, тем со все большей отчетливостью предстают предо мной дни минувшие.
Вот некоторые цитаты из книги известной польской исследовательницы Хелены Кубки «Дети и молодежь в концлагере Освенцим»: «Особо трагична была судьба детей и молодежи в концлагере смерти Освенцим. Детей отбирали у матерей и умерщвляли их на глазах самыми коварными методами – удар по голове, сброс в горящую яму. Этот садизм сопровождался ужасными криками еще живых родителей. Трудно, невозможно установить число погибших детей.
Однако по общей численности транспорта, количеству вагонов в составах можно подсчитать, что только в Освенциме погибло 1,3–1,5 миллиона детей, по большей части еврейских, цыганских, привезенных из Польши, Белоруссии, Украины, России, Прибалтики, Венгрии, Чехии и других стран».
Далее автор приводит статистические материалы архивов: «Первый транспорт прибыл в Освенцим в марте-апреле 1942 года из Словакии, затем из Франции. Так, с 27 марта 1942 года до 11 сентября 1944 года только из Франции прибыло 69 больших и два меньших состава, где находилось около 69 тысяч человек, в том числе 7,4 тысячи детей». А ведь были в те годы составы с евреями из Бельгии, Германии, Австрии, Норвегии, Голландии, Югославии, Греции, Италии и особенно большие из Польши.
В итоге по оценке историков многих стран (имеется официальная статистика) из более чем 6 миллионов уничтоженных евреев до 50 процентов приходится на жителей Польши, где до 1 сентября 1939 года проживали более 3 миллионов евреев.
Геноцид целого народа в 1933–1945 годах оставил тяжелый след в истории. Еще не все имена и фамилии погибших известны и обнародованы, не все злодеяния фашизма раскрыты. Кто может дать ответ на вопрос: сколько гетто было на территории Польши, Белоруссии, Украины? По имеющейся оценке, только на территории Польши было 400 гетто, но до сих пор остаются неизвестными имена всех жертв. По Белоруссии, Украине вообще отсутствуют подобные оценки.
Дорога, по которой прошли чудом уцелевшие узники в 1941–1945 годах, тяжела и сложна, она для каждого сложилась по-своему, и многие наши собратья – большая часть бывших узников – не дошли до конца этого страшного пути.
Я не могу забыть эпизоды лагерной жизни в Освенциме 1943–1944 годов. Перед глазами – виселица на аппельпляце и станок, где мы получали свои «порции» ударов. Мне пришлось пройти и «Politische Abtielug» – политический отдел, где ударами плетки меня «награждал» бывший комендант концлагеря оберштурмбанфюрер Рудольф Гесс. Из моей памяти не стерлось обличие обер-врача – садиста в белом халате Иозефа Менгеле, на совести которого бесчисленные малолетние жертвы. Я уже многие годы ношу с собой портреты этих двух извергов, чтобы показывать людям. Всегда со мной фото, сделанное 1 февраля 1943 года, где я изображен в трех видах в полосатой форме, полученное мною из архива Освенцима еще в 1965 году.
Приведу одну цитату польского писателя Игоря Неверли – бывшего узника Освенцима. Он писал: «Правда Майданека или Освенцима – это трудная правда, а для тех, кто прошел через это – очень личная правда. Мне кажется, что отображение этой правды во всей ее сложности станет возможным лишь в произведениях будущих поколений. Она, эта правда, будет подлинная, как смерть, и уже не будет отравлять».

Кратко расскажу о своем тюремно-лагерном пути д линой в 1375 дней и ночей, начало которому положила война.
Начало войны запомнилось мне на всю жизнь ночной бомбежкой 22 июня 1941 года. Гродно, где мы жили, – пограничный город, стал жертвой фашизма в первый же день войны. Это была легкая добыча: город был окружен и взят без особого сопротивления. Покинуть его каким-либо способом было практически невозможно.
До начала войны мы жили обычной мирной жизнью. Отец, единственный кормилец семьи, портной высшего класса, имел свою небольшую мастерскую на улице Ожешко. Проживали мы рядом – в двухкомнатной квартире на улице Городничанской (затем Энгельса), 12. Отец был родом из Варшавы, а мать (девичья фамилия Любич) – из Гродно. В семье было трое детей – старшие сестра и брат и я. Хорошо помню, как уже в июле 1941 года евреям запрещалось ходить по тротуарам. Мы должны были пользоваться только проезжими дорогами. Вскоре появились и желтые «звезды Давида», которые нас обязали пришивать к верхней одежде.
Гродненские гетто (их было два) появились сразу же, летом 1941-го. Окруженная колючей проволокой, ограниченная территория была для нас, мальчишек, барьером, который мы часто преодолевали и уходили в город к полякам на поиск продуктов в обмен на одежду, ценные вещи, что родителям удалось сохранить. В эти гетто были согнаны не только жители города и близлежащих районов, но периодически туда поступали и еврейские семьи из Польши, Прибалтики, более отдаленных стран – Австрии, Чехии.
Первое время работоспособных мужчин использовали на разных работах в городе и области. Затем стали отбирать группы людей якобы для переселения. Потом мы узнали, что их расстреливали недалеко, в деревне Колбасино, которая была превращена в братскую могилу, не единственную в области. В гетто по причине голода, холода и болезней ежедневно умирали десятки, сотни мирных граждан. Их тут же хоронили возле домов, где они жили. Периодически проводились расстрелы и повешения, которые продолжались до конца 1942 года. На них сгоняли население гетто.
В конце 1942-го гетто было ликвидировано. Заключительный период ликвидации осуществлялся по особому плану. Ежедневно людей железнодорожными составами вывозили в концлагеря смерти. Я с родителями тоже попал в один из таких составов. В этот период уже поступила информация об «окончательном решении еврейского вопроса», которое должно было завершиться по плану Гитлера в 1943 году. Именно на этот период приходится «пик» работы многочисленных крематориев в Освенциме, Майданеке, Треблинке. В этих трех концлагерях-«миллионщиках» уничтожено более 6 миллионов человек.
Запомнился мне пеший поход под конвоем от гетто до железнодорожной товарной станции. Нас погрузили в вагоны с верхними зарешеченными окошками. Каждый вагон, после того как в него загружали до 120 человек, закрывали и опломбировывали. Без воды и пищи в до предела переполненных вагонах мы из Гродно со скоростью пассажирского поезда мчались через Белосток, Варшаву, Лодзь, Катовице в Освенцим.
В вагоне можно было только стоять, и потому уже вскоре после отъезда у многих было обморочное состояние. Без всякой надежды на жизнь люди умирали в тяжких муках и страданиях. На вторые сутки в вагоне были штабеля трупов, и по ним нас, детей, продвигали к окошкам, с которых родители пытались сорвать решетки. Наш эшелон двигался практически без остановок. Ночью на перегоне между Лодзью и Краковом меня на ходу поезда выбросили через окошко.
Я хорошо помню слова родителей: «Живи, Толя, живи», их поцелуи и слезы, оборвавшиеся внезапно. Я оказался в снегу под откосом железнодорожной насыпи. И сразу уснул, а, проснувшись, наелся вдоволь снега. Было утро. Я пошел в лес в поисках пищи, но прежде сорвал и закопал желтые звезды. На мне была теплая куртка и синяя буденовка с красной звездой. В то время это был любимый детьми головной убор, теплый и красивый, я дорожил им еще и потому, что сшит он был умелыми руками моего отца. Видимо, я бродил по лесу несколько дней, пока не был схвачен «шуцполицаями». Они во мне увидели партизана или их связного и решили передать в руки гестапо. Хорошо помню, как вели меня по улицам города Катовице под дулом автомата, как многие прохожие кричали: «Партизан! Большевик!». Мне тогда еще не исполнилось 13 лет.
В гестаповской тюрьме в Катовице я пробыл более двух месяцев, мне и сейчас страшно вспоминать о них. Допросы проводились практически ежедневно. Были пытки, побои, угрозы, но я старался крепче держаться за хрупкие жизненные надежды. Оказавшись в камере вместе с пожилыми поляками, я сразу ощутил их заботу. Они ежедневно умирали, но не сдавались. Это они старались ради моего спасения внушить мне: «Ты не еврей, и они никогда не смогут это опровергнуть. Ты – белорус». Я усвоил их совет. Это и спасло мне жизнь, да еще заботливое отношение ко мне судьбы.

На допросах я так и отвечал: «Я – белорус», рассказывал, что отстал от поезда и ищу родителей, что родился в Польше, знаю польский и немного белорусский. Можно долго описывать тюремную жизнь, но тюрьма и есть тюрьма. Помню, что у меня брали кровь на анализ, врачи обследовали меня, и все уговаривали признаться и указать место расположения партизан. А как я мог это сделать, если ничего не знал? А если б и знал, то не сказал бы. Приговор гестаповцев был однозначным – лагерь смерти Освенцим.
И вот 1 февраля 1943 года я в арестантском вагоне прибыл из Катовице в Освенцим. (В 1965 году я получил официальное подтверждение об этом из архива музея на польском языке вместе с моим фото.) Сразу по прибытии нас отправили в баню, где постригли, побрили, накололи на левой руке номера, одели в полосатую форму и деревянные колодки. После всех этих процедур я превратился в «Heftling» – заключенного под № 99176 с буквой «R» – белорус.
Лагерная жизнь людей, имена которых заменяли номера, описана многократно в изданиях Польши, Израиля, других стран, и потому нет смысла повторяться. Расскажу лишь о некоторых моментах лагерной жизни 1943 – 1944 годов. (В этом лагере смерти, ставшем могилой более чем 4 миллионам человек, многие годы работает всемирно известный музей.).
Сначала мы прошли карантин в восьмом блоке, где нас учили «азбуке лагерной жизни». Это были тренировочные дни: нас строили в шеренги, мы шагали «в ногу», выполняли команды – «рехтс ум», «линкс ум», «мюце ап», «мюце ауф», «шнеллер» (направо, налево, снять шапку, надеть шапку, быстрее) и т.п. Шагать в деревянных колодках на босу ногу очень тяжело – мозоли и кровоточащие раны не заживали. Через две недели нас распределили рабочими бригадами по блокам. Некоторое время я был в 24-м блоке (чердак). Везде трехэтажные нары, соломенные матрацы, тонкие одеяла. Режим: подъем, кава, «аппель», то есть проверка, отправка на работу. Днем снова проверка и особый «аппель» вечером – нас пересчитывали по блокам, и блоковые СС лично отдавали ежедневный рапорт коменданту лагеря. Очень долго приходилось стоять, ибо пересчитать и свести воедино 25–30 тысяч узников было не легко. Зимой люди мерзли. Вскоре всех малолетних узников – детей и подростков 9–15 лет – собрали в 18-м блоке в подвале. Наш «капо» – старший блока, немец с зеленым «винкелем» (треугольник вершиной кверху), был особо жестоким человеком. Его крики и удары заставляли нас повиноваться беспрекословно, ибо расправа ожидала за малейшее нарушение. В лагере нас опекали старшие узники, помогали чем могли: едой, одеждой, важным советом.
Работал я в строительных мастерских – «Bauleitung Wersteten» – учеником маляра, другие вроде меня – учениками электриков, кровельщиков, сантехников. Такая работа нас устраивала: мы были рядом со старшими узниками, готовыми всегда и во всем помочь. В основном должность мастера занимали политические узники – поляки, немцы, фольксдойчи, чехи, словаки, очень редко – русские. Мастерские расположены были близко к основному лагерю, но каждый день дважды приходилось строем шагать через главные ворота, над которыми было написано: «Arbeit macht frei», «Jedem das seirrte» – «Работа делает свободным» и «Каждому – свое». Ни один узник, оставшийся в живых, не забудет этого никогда. Фашисты гордились такими лозунгами, планомерно выжимая из нас силы. Уже через 3–4 недели лагерной жизни человек худел и превращался в ходячий скелет.
Однажды утром, не предвидя никакой беды, мы были приведены под конвоем в мастерские, но к работе так и не приступили. Гестаповцы, ничего не объясняя, начали избивать нас прямо в строю, крича «швайне» – свинья. Мы ничего не могли понять. Чуть позднее стало известно, что накануне на мясокомбинате, где мы ремонтировали подсобные помещения, пропала свиная полутуша. Кто и как ее украл, выяснить не удалось. Фашисты спохватились слишком поздно. Нас всех строем привели в политический отдел лагеря (Politische Abtielung). Допрашивали поодиночке, избивали до потери сознания.

Помню «станок», к которому узника привязывали ремнями: включался мотор, станок начинал вращаться, а человека избивали плетками. Избитого уносили на носилках. Меня допрашивали на польском языке. «Ты еще слишком молод, – были первые слова, – скажи нам, кто украл мясо, и мы тебя отпустим на волю, ты только скажи правду». Я им ответил: «В лагере я еще ни разу не видел и не ел мяса. Никакой туши свиньи у нас в мастерских не было». Получив свою «порцию» ударов, я был вынесен на носилках. Затем всех нас, окровавленных, повели в лагерь и поместили в 10-м блоке, где, как и в 11-м, были устроены одиночные камеры, имелись спецустройства для пыток и стена смерти, у которой расстреливали узников после допроса. В конце концов один из старших узников взял вину на себя, его жестоко избили и на глазах у нас расстреляли. Через некоторое время нас отпустили по своим блокам. После этого я еще больше возненавидел фашистов.
Старшие товарищи после случившегося оказывали нам особое внимание и заботу – подкармливали и лечили. Со временем я стал догадываться, что в лагере существуют подпольные организации. Нас порой использовали для передачи записок, оповещения узников. Учитывая мои знания польского, русского и белорусского языков, меня направляли в те или иные блоки, где можно было получить какую-то информацию. Благодаря этому я подружился с русским военнопленным Виктором Липатовым (его лагерный номер 128808), встречался с поляком Юзефом Циранкевичем, видел генерал-майора Дмитрия Михайловича Карбышева, Александра Лебедева, которые возглавляли подпольные организации.
Следующий эпизод связан с тем, как меня поймали в воротах лагеря. За поясом было 3 батона вареной колбасы. Я выполнял поручение узников: во что бы то ни стало доставить колбасу в лагерь для поддержания больных. Долго меня готовили к этому – примеряли, обвязывали веревками, и казалось, что никто и никогда ничего не заметит. Но либо кто-то донес, либо просто собаки учуяли мой груз. Когда я вместе с другими проходил главные ворота лагеря, меня вытащили из шеренги и повели на аппельпляц, где всегда стояли виселицы, станок для избиения. Меня поставили на табуретку под виселицей и приказали держать колбасу в руках. Так я стоял несколько часов, ожидая смерти.
Трудно передать словами то, что со мной было в те часы. Узники 18-го блока, с которыми я жил, были уверены, что я погибну. Но свершилось чудо, я так считаю. В этот вечер проверка затянулась на многие часы. Возможно, проводились незапланированные чудовищные акции в связи с подходом большого количества составов, и крематории не справлялись с работой, не знаю. Разъяренный и слегка пьяный, комендант лагеря Рудольф Гесс, подойдя, начал избивать меня своей плеткой, крича «швайне», «ферфлюхте швайне» – свинья, проклятая свинья. Я упал, колбаса свалилась, я пытался подняться, но удары продолжались, и я снова падал. Через некоторое время он остановился. Может быть, Гесс уже выполнил свой план работы и изрядно устал? Но он вдруг с криками «ляус, шнеллер» погнал меня к блоку, где мое место еще пустовало.
Мои страдания, а затем освобождение, в которое никто не верил, запомнили многие узники, особенно оказавшиеся вблизи места действия, около виселицы, в колонне 18-го блока. И сам я тоже долго не мог поверить в случившееся чудо. А может быть, Гесс просто пожалел меня, маленького, истощавшего от голода и других невзгод?.. Такие мысли приходят мне иногда в голову. Юзеф Циранкевич приходил ко мне, хвалил за мужество. Подобных эпизодов в лагерной страшной жизни случалось много. Узники знали, что обречены на гибель, что из этого лагеря живыми не выходят.
Часто в лагере проводились акции по отбору ослабевших узников. Они осуществлялись обычно в выходные дни или после вечерней проверки. Всех по блокам раздевали догола, пропускали через так называемую баню и комиссию, состоявшую из врачей и эсесовцев. Обливая холодной водой из брандспойта, нас приводили в чувство и по одному направляли на осмотр. Технология отбора была проста – здоровых направо, больных и ослабевших – налево. Тут же записывали номера только «левых». Это был сигнал: завтра уже не направят на работу, их ожидает смерть в крематории. Нередко бывали случаи подмены некоторых узников, ибо регистрацию больных проводили гражданские врачи (поляки, фольксдойчи), которые были связаны с руководителями подполья.
Жесткие правила лагерной жизни приучили нас к борьбе за самосохранение, к дружбе, взаимопомощи и взаимовыручке. Нередкими были случаи самоубийств – люди не выдерживали побоев, унижений, тяжкого труда, издевательств, голода и холода и уходили из жизни, вскрывая вены, бросаясь на колючую проволоку, по которой проходил ток высокого напряжения, и т.п. Мы уже привыкли к режиму лагерной жизни. Акции фашистов продолжались. Были и побеги из рабочих команд. Тогда убитых узников и их еще живых товарищей помещали на аппельпляце для всеобщего обозрения.
Вторая мировая война была в разгаре, фашисты отступали, а мы были обречены.
В конце августа 1944 года нас построили в колонны и направили сначала пешком, а потом на открытых железнодорожных платформах в концлагерь Гроссрозен, недалеко от Бреслау (ныне Вроцлав). Это небольшой лагерь, расположенный в горах, и мы работали главным образом в каменоломнях. Условия жизни были тяжелейшими. Охранники – власовцы проявляли особую жестокость. Здесь не было никакой медицинской помощи. У меня на шее сохранились шрамы от фурункулов, которые мне вскрывали старшие узники лезвием и промывали мочой. Погодные условия сказывались на здоровье узников. Ежедневно на специальных тележках трупы увозили в крематорий.
В феврале 1945 года нас опять перегнали, теперь в концлагерь Нордхаузен – у концлагеря Дора у Магденбурга. Он находился в промышленной зоне. Нас разместили в пустующих ангарах. Спали на бетонном полу. Кормили один раз в сутки запаренной неочищенной брюквой. Мы уже не работали: голодные, озябшие, больные мы едва передвигали ноги и ждали окончания войны.
В один из дней начала апреля 1945 года американская авиация бомбила Магденбург, в том числе и наш ангар. Плотность огня была очень высокой, и день превратился в ночь. Многие погибли. Я уполз с двумя узниками, и, переползая из воронки в воронку, укутываясь найденными одеялами, мы, наконец, добрались до стога сена. Легли спать, но передохнуть не удалось – нас обнаружили гитлерюгенды, вооруженные автоматами, с собаками. Они разметали наш стог. Позже мы узнали, что нас предал «остарбайтер» – русский или украинец. Один из нас имел неосторожность под утро выйти из стога и попросить у него хлеба и какой-нибудь пищи.

Нас снова погнали в лагерь, но повторилась бомбежка, и мы скрылись в лесу. На этот раз мы уже обзавелись оружием (гранаты, автоматы), подобранным в лесу. Вырыв окопы, мы спрятались в них, накрывшись ветками. Так мы встретили американские войска.
Нас накормили и передали в госпиталь. Это было 11 апреля 1945 года – мой второй день рождения. Нас взвесили, и я узнал, что в мои неполные 15 лет вешу 15 килограммов 300 граммов. За нами ухаживали, лечили и хорошо кормили. Предлагали поехать на постоянное жительство в США.
Теперь я думал только об одном: скорее бы поехать домой, надеялся увидеть своих родных. Через 5–6 недель по нашей просьбе нас перевезли в советскую зону и передали в лагерь для перемещенных лиц во Франкфурте-на-Одере. Здесь нас продолжали лечить, проверяли и готовили для отправки на родину. Везли нас на автомобилях с походной кухней через Польшу до Ковеля, где отпустили по домам.
В Гродно я добрался в августе 1945 года. У меня не было ничего, кроме котелка, одет я был в американский свитер. От железнодорожного вокзала я шел пешком по улице Ожешко хорошо знакомыми местами. Открыв калитку родного двора, я вошел, меня встретила собака и сразу, к моему удивлению, узнала. Услышав лай, выглянула дворничиха и повела меня к себе. Она рассказала, что в нашей квартире вся мебель на месте, а живет в ней пани Стефания Шурковская. Затем она повела меня в квартиру на первом этаже, в которой проживала семья полковника Матвея Кислика. Я рассказал им о себе, и они стали заботиться о моем трудоустройстве и жилье.
Вскоре исполком официально вернул мне родительское жилье, меня определили учеником повара в ресторан «Неман» на улице Энгельса, 20. Пани Шурковская уехала к своей дочери в Варшаву, а я начал новую жизнь, теперь уже трудовую. Первое время, по словам пани Шурковской, я вставал ночью и во сне воспроизводил лагерные команды «мюце ауф», «шнеллер» и другие. Меня обследовали врачи. Я получил свидетельство о рождении, а затем, уже в 1946 году, первый паспорт. Фотография того года у меня сохранилась.

Прошли годы, но в памяти моей не померкло прошлое, особенно период 1941–1945 годов. В целом жизнь сложилась удачно, не считая сложностей, без которых ее не бывает. Я выучился, стал профессором. Меня всегда сопровождали хорошие, добрые и отзывчивые люди, а я старался быть похожим на них, оставаясь в то же время самим собой. Я жил и живу по принципу – делать людям добро, всегда и во всем помогать нуждающимся, непременно выполнять намеченное – свои планы и программы. Я никогда не стремился к накопительству. Нашу семью несколько раз выгоняли из дома, не позволяя взять с собой что-либо. Я видел много горя, несправедливости, равнодушия, чванства и тому подобного как в детстве, так и взрослым.
Уровень жизни наших бывших малолетних узников постоянно снижается, и этому не может быть оправданий. Люди, доживающие свой век, должны жить в достатке – они это заслужили. Мы продолжаем надеяться на лучшее. Известно, что жизнь – это борьба, и в ней всегда есть победители и побежденные. Мне часто приходят на память слова генерала Дмитрия Карбышева: «Люди, будьте бдительны, мы победим». Это было сказано в феврале 1945 года. Жизнь продолжается.
В декабре 1989-го мы создали Полтавское отделение Союза малолетних узников Украины, и я являюсь его председателем. У нас на учете состояли более 600 человек, в том числе 55 бывших узников концлагерей смерти. Начиная с 1994 года, все получили так называемую компенсацию в размере 600-1000 немецких марок. Нас приравняли к участникам и инвалидам войны и даже к участникам боевых действий. Однако ни льготы, ни поступающая изредка материальная помощь не позволяют доживать век в достатке. При этом ежегодно уходят из жизни по 20 и более человек.
Однако мы живем надеждами на лучшие времена. Надежда умирает последней.
В оформлении использованы рисунки
Иосефа Бау
Ежемесячный литературно-публицистический журнал и издательство.
Тамару Осикову, живущую в области на территории Хоперского заповедника, можно смело заносить в Красную книгу как редкий и исчезающий вид. Она одна из немногих, кто способна рассказать о Равенсбрюк, где почти два года была узницей.
На вчера, 4 мая, у Тамары Николаевны выпал юбилейный день рождения. Столько их уже было в ее жизни, что и праздновать неудобно - 90 лет. В поселке Варварино Новохоперского района, где она живет последние десять лет, сейчас благодать. Сквозь огромные сосны снопами пробивается солнце, кругом заливаются птицы и полыхают тюльпаны. Мошки еще нет, а комары только вечером. Воздух, напоенный медовыми и хвойными ароматами, можно, кажется, пить. Младшая дочь Наталья - сама уже давно бабушка - ставит стульчик возле дома, усаживает Тамару Николаевну, гладит по руке: «Отдыхай, мамочка» . Палочка возле стула, на коленях узкие руки, с длинными узловатыми пальцами, ласковый ветер треплет седые волосы, а солнце разглаживает глубокие морщины. Глаза, уставшие от долгой жизни, почти не видят. Тамара Николаевна слушает птиц, подставляет лицо солнышку и вспоминает. За такую долгую жизнь много чего было. И война, и победа, и любовь, и предательство. Родились дети, да что там - внуки совсем взрослые. Их успехами она теперь живет, огорчается их поражениям. Ее жизнь - вчерашний день, давно перевернутая страница. Чего о ней вспоминать-то? Но дети просят.
…То был, наверное, самый яркий день рождения в ее жизни. Ей исполнилось 23 года. За несколько дней до того охрана концлагеря Равенсбрюк, где Тамара значилась под номером 23267, выгнала всех заключенных из бараков и велела построиться на плацу. Женщины забивались под кровати, прятались по углам, бились в истерике - для них несанкционированное построение могло означать только одно, массовый расстрел. Тогда охранники заколотили все окна и двери, облили бараки бензином, обещая поджечь. Толпа женщин в полосатых серо-синих платьях понуро высыпала на плац. Тамара вцепилась в руку своей подруги Тамары Кузьминой, с которой не расставалась с тех пор, как оказалась в Германии, и решила: будь что будет. Сколько людей было в лагере, она не помнит. Около 60 тыс., кажется. Их вывели за ворота, построили в колонны и повели по дороге. Конвоировали немцы с автоматами и собаками. Людей прибывало, их выводили из соседних лагерей. Рядом оказались мужчины. Поляки, французы. Они почти не разговаривали - живой поток безмолвно лился по дороге, сколько хватало глаз. Стемнело. Колонна сделала привал, все разбрелись по посадкам вдоль дороги. Когда заключенных стали собирать, две Тамары так и остались сидеть, прижавшись к дереву. Искать их не стали. Все ушли, и наступила ночь. Девчонки не успели порадоваться своему спасению, как начался бой. Буквально через их головы с диким свистом полетели залпы «Катюш». «От свиста сводило все внутренности, - вспоминает Тамара Николаевна. - Утешала солдатская мудрость - пока слышишь, как свистит снаряд или пуля - они не твои» . Девчонки дожили до утра, когда залпы стихли, вышли из своего убежища и пошли вдоль хилого лесочка. Прошли совсем немного и наткнулись на пустое имение. Немецкие фермеры, жившие в доме, бежали, видно, в последнюю минуту. В сараях хрюкали свиньи, мычали коровы. В доме было полно еды и одежды.
«Первым делом мы сорвали с себя ненавистную лагерную форму , опостылевшие за почти два года панталоны на веревочках, полосатые платья и пиджаки, - рассказывает Тамара Николаевна. - В шкафах и сундуках оказались невероятной легкости и красоты платья. Шелковые, ласкающие кожу. Удобные и красивые туфельки. Мы нагрели воду, нашли душистое мыло и с наслаждением стали смывать и отскребать с себя всю лагерную грязь. Ужас, усталость и отчаяние уходили с мыльными потоками. Мы переоделись и заглянули в зеркала, которых не видели, казалось, целую вечность. Оказалось, что мы все те же девчонки - молодые и хорошенькие. Пусть вместо былых кудрей по пояс - короткий ежик, да просвечивали ребра, а на лице остались одни глаза, но мы живые. Живые!»
Справка « »: Равенсбрюк располагался на северо-востоке Германии, в 90 км от Берлина. Лагерь существовал с мая 1939-го до конца апреля 1945 года. Перед началом войны немцы ездили в ГУЛАГ, чтобы перенять опыт организации подобного рода учреждений. Число зарегистрированных заключенных - более 130 тыс. По разным оценкам, в Равенсбрюке скончались и были казнены от 50 до 92 тыс. женщин.
На ферме девчонки прожили несколько дней. Туда пришли такие же, как они, беглецы. Вспомнили про Тамарин день рождения, о котором она забыла на всю войну. «Ах, какой был пир, - улыбается сейчас бабушка. - Зажарили кабанчика, наварили картошки. Пожалуй, никогда - ни до, ни после - я не была такой счастливой».
Может, таково вообще свойство человеческой памяти, может, именно Тамары Николаевны особенность, но из прошлого она помнит почти только хорошее. Ей было 19 лет, когда началась война. Она окончила три курса химико-механического техникума. Семья жила в Славянске, провинциальном городке Донецкой области. «Мы ютились во флигеле с соломенной крышей, - вспоминает Тамара Николаевна. - Когда начались бомбежки, вырыли окопчик прямо посреди дома, под родительской кроватью. Набросали туда подушек, перин и, как только слышали гул приближающихся самолетов, прыгали туда. Страшно было до ужаса, но Бог миловал».
В Донбасс пришли фашисты и стали угонять молодежь - для работы на пользу «великого рейха». До поры до времени Тамаре удавалось скрываться от облав, прячась у тетки на окраине, но из гестапо передали: «Не появишься сама, угоним мать». На руках у той - двое маленьких детей. Выбора у Тамары не было, и она отправилась на вокзал. Осенью 1942 года их построили на вокзальной площади, пересчитали и засунули в «телячьи» вагоны. Там, на вокзале, она повстречала свою землячку и тезку - Кузьмину. До конца войны они не разлучались. Возможно, потому им и удалось выжить, что они постоянно чувствовали поддержку друг друга.
«Мы ехали послушные, как овцы, - вспоминает бабушка. - Чем нас кормили, как долго мы ехали, - не помню. Приехали в какой-то город. Помню, меня поразили красные перины, которые сушились на балконах. Нас привезли в жандармерию и стали распределять по семьям. Всем немцам, у кого кто-то был на войне, полагалась прислуга. Нас с Тамарой забрали две сестры. Они жили в соседних домах. Мне с хозяйкой повезло. Ее звали Марией - добрая простая женщина с грудным ребенком на руках. Жили они вместе со свекром. На мне была домашняя работа - уборка, готовка, стирка. Причем Мария работала со мной наравне и всему меня научила. До сих пор помню, как она отбеливала белье. Не кипятила, а мариновала его на солнце. Положит на траву, зальет водой и переворачивает. Очень чистое белье получалось. Первым делом она подарила мне фартук и хорошие ботиночки. Научила меня правильно хозяйствовать, подавать на гарнир копченую сливу. У меня до сих пор немецкий порядок в шкафах. Ничего плохого не могу сказать о своих хозяевах - я ела с ними за одним столом и то же самое, что и они. Немцы никогда не обижали меня ни словом, ни поступком. Однажды им пришла похоронка, к которой была приложена карта с указанием места, где убили их сына и мужа. Но отношение ко мне не изменилось. Они только говорили, что, когда закончится война - Германия разобьет Советы, поедут навестить могилку. А меня возьмут в качестве проводника. Тяжело мне было такое слушать, и тайком я, конечно, плакала».
Тезке повезло меньше. Ее хозяева оказались людьми вспыльчивыми и сердитыми. Они заставляли ее работать без роздыха, изводя придирками. К тому же там были дети-подростки, которые откровенно над ней издевались. Пару месяцев девушки прожили в немецких семьях, а под Рождество получили весточку от своих землячек, с которыми ехали в Германию тем же эшелоном. Девушки работали на фабрике неподалеку и умудрились передать Тамарам письмо. В письме были стихи, что-то вроде того, что не плачьте, девчонки, война скоро закончится, и поедем с победой домой. Безобидное, по сути, письмо сыграло с Тамарами злую шутку. Их забрали сначала в жандармерию, а потом и вовсе посадили в тюрьму. «Чистенькая такая тюрьма, - улыбается Тамара Николаевна, - удобная, с туалетом. Хозяйка на дорогу собрала мне большую коробку бутербродов и несколько пар обуви. В концлагере мне оставили только одни ботиночки - кожаные, на шнурочках. Они меня здорово выручили - все били ноги в деревянных сабо, которые выдавали узникам, а я два года проходила в крепкой и удобной обуви» . Через несколько дней девушек отправили в едва ли не самый известный женский лагерь Второй мировой войны - Равенсбрюк.
«В лагере у нас забрали вещи и повели в баню. Такая огромная комната, в которой с потолка лилась вода. Мы с Тамарой боялись потерять друг друга и почти все время держались за руки. Потом нас побрили под машинку, выдали одежду с порядковым номером на рукаве и отправили в барак. Там стояли трехярусные кровати, с которых мы каждый день по сигналу «Подъем!» в пять утра прыгали вниз для построения. Мы с Тамарой спали вместе, так было теплее. Заключенных строили по порядковым номерам, развод проводили женщины-надзирательницы. Они ходили в юбках-брюках, вооруженные нагайками и собаками. Военнопленные жили отдельно. Мы их почти не видели - на работу их не водили. Во дворе, при входе стояла огромная печь. Мы знали, что крематорий, что там жгут людей. Из печи почти всегда валил дым. Мы страшно боялись заболеть, потому что знали: главное здешнее лекарство от всех болезней - печь. Один раз моя подруга заболела, но ей быстро удалось выкарабкаться - она уложилась в отведенные для болезни пять дней».
Девушек отобрали на работу в гальванический цех на авиационный завод. Точнее, отобрали Тамару - у нее были изящные руки, а работа требовала мелкой моторики. А вторая Тамара сделала шаг вперед, попросившись работать с подругой, и ей разрешили. Девушки хромировали мелкие детали, опуская их в ванну с кислотой. Уже после войны выяснилось, что от паров кислоты у Тамары Николаевны полностью разложилась перегородка носа. Но тогда девушки радовались, как им повезло.
Контролировал работу пожилой немец, который относился к ним с сочувствием. Он проверял качество вполглаза. Видимо, сам был антифашистом, поэтому не замечал их легких попыток саботажа. А однажды на Пасху принес им два кексика, завернутых в красивую подарочную бумагу. Дарил какие-то журналы на английском. Но за время войны Тамара не то что на английском, даже на русском читать разучилась.
Тамара Николаевна не помнит, как их кормили: «Голода я не чувствовала. Не били, не обижали. И вообще за все то время, что я была в Германии, прикоснулись ко мне только один раз, когда брили голову» . После освобождения из концлагеря две Тамары работали в одной из частей, стоявших на территории Германии, - опять стирали, зашивали, готовили. Но, понятно, с другим настроем. Потом поехали домой. Ехали через Берлин, мимо Рейхстага, который весь был исписан надписями на родном языке. Домой возвращались с трофеями. Тамара - с небольшим чемоданчиком, в котором была почти невесомая шубка, несколько восхитительных платьев, пара кофточек и нижнее белье. В Польше сделали небольшую остановку, за время которой девушка умудрилась сделать себе прическу - химическую завивку.
«Может, память у меня такая счастливая, - сама себе удивляется бабушка, - может, и правда за моей спиной всегда стояли ангелы. И после войны обошли меня несчастья. А ведь для тех, кто пережил немецкие лагеря, был прямой путь - в наши». Особисты ее, конечно, тягали. Почти три года прожила Тамара Николаевна в Германии, тут и за месяц, проведенный на оккупированной территории, можно было загреметь на всю жизнь в вечную, так сказать, мерзлоту. Но она честно излагала следователям свою биографию. Раза три или пять. Как жила у немецкой хозяйки, как попала в лагерь. И прислушивалась потом по ночам, когда за ней придут. Почему-то не пришли. После войны Тамара окончила техникум, 33 года проработала конструктором на химзаводе в Константиновке. Два раза вышла замуж и оба раза - за Василиев. Обе дочки - Лида и Наташа - с одинаковыми отчествами, хоть и от разных отцов. У тех уже свои взрослые дети - ее трое внуков. Недавно она перебралась с Украины поближе к младшей, которая работает в Хоперском заповеднике вместе с зятем. В 60 лет, после смерти второго мужа, Тамара Николаевна стала вышивать иконы. За четверть века вышила их более сорока. Большинство из них были освящены и украсили несколько храмов Донецкой области и несколько церквей Новохоперского района. «Я, как принялась вышивать иконы, - рассказывает бабушка, - так опять счастливой стала. Вышиваю, и так мне хорошо - ни грустно, ни одиноко, а только светло и радостно. Жаль, что мои собственные глаза мне служить перестали, но хорошую память о себе я уже оставила».
Мой дедушка Виктор Шелухо в подростковом возрасте прошел три концлагеря и был вывезен на каторжный труд в Германию. Он часто рассказывает нам, внукам, о тех годах - это страшные воспоминания. Возможно, именно по этой причине прихожу в негодование от глупых высказываний в интернете: «Лучше бы победили немцы, мы бы сейчас жили не тужили». Тот, кто не стесняется это говорить и писать, по всей видимости, забывает, какая роль отводилась «не арийцам» в планах нацистов, что за участь ожидала наше старшее поколение. Явно не процветание.
Бухенвальд, Саласпилс, Озаричи, Равенсбрюк, Майданек, Освенцим, Собибор... Пожалуй, самым чудовищным планом нацистов по строительству «нового мирового порядка» было создание концентрационных лагерей: детских, трудовых и транзитных, лагерей для военнопленных, крематориев и душегубок. Их было настолько много, что, по сути, подразумевалось строительство глобального мирового концлагеря. Из 18 миллионов узников уничтожено более 11 миллионов (для сравнения: численность столицы Беларуси - менее 2 миллионов человек). Результатом одной лишь политики «окончательного решения еврейского вопроса» стала гибель примерно 6 миллионов евреев Европы. А сколько убийств еще готовилось.

Прошедшие немецкий плен и каторжные работы в Германии, чудом спасшиеся от газовой камеры и адской печи гомельчане - узники этих самых концлагерей - спустя много лет вспоминали...
Нина Владимировна Гобрусенок, узница концлагеря «Саласпилс»: «...Немцы в лагере разделяли нас по шеренгам. Первая - кто мог работать, следующая была из тех, кто похож на еврея (волосы кудрявые или нос с горбинкой). Их расстреливали на наших глазах, извергам, наверное, было приятно, что дети видели это. Из всех малюсеньких состояла третья шеренга...
Охраны было очень много. Если ребеночек провинился, спускали собак, те разрывали его на куски, а немцы просто смотрели на это. Чем занимались, не помню... мы дрожали, знали, если провинимся - будет смерть. Я настолько боялась немцев, что даже не могла посмотреть им в глаза - глаза вечно были опущены. Немцы иной раз шли и били рукой по подбородку, чтобы мы посмотрели на них... Когда много лет спустя приехала в Ригу, мы спросили у экскурсовода: „Каким чудом мы спаслись?“ Нам рассказали, что в лагере создали подпольную группу. У немцев была душегубка - машина, в которой узников травили газом. Так вот, благодаря подпольной группе нас посадили в эту машину и вместо того чтобы включить газ, отвезли в костел, откуда жители Риги разбирали детей по домам... Я до сих пор хочу есть, голод меня преследует всегда».
Наталья Филипповна Буйневич, чудом выжила в женском лагере смерти Равенсбрюк: «...Это был женский концлагерь с особо жестоким режимом... Мы вставали в 3.30, в 6.00 начинался непосильный труд, в обед - водянистый суп с добавлением брюквы и немного картошки. Возвращались в 19.00 с работы, в течение двух часов стояли на плацу на перекличке. Охраняли нас сугубо женщины. У них были оружие и собаки. Они избивали нас за малейшие нарушения. Однажды я вышла на апельплац в одном башмаке, другой, со сломанной подошвой, держала в руке. Наказание - 25 ударов резиновой дубинкой. Меня привели в камеру, положили на деревянный станок для телесных наказаний с четырьмя захватами для рук и ног. На 15-м ударе я потеряла сознание, меня окатили ледяной водой и продолжили. Как-то на моих глазах озверевшая конвоирша вырывала тело ребенка из рук матери, а та не отдавала, кричала, молила: они ее избили... Умирать буду, не забуду этого ужаса!»
Любовь Михайловна Алехина, узница концлагеря в Германии: «...С Прибора нас погнали, посадили в товарные поезда. Кто кричал, кто пищал... Страшно было. В лагере кормили брюквой, жабами кормили... Жабка ножками дрыгает, а ее заставляют есть под конвоем. Ой!.. Дети днем одни в лагере были. Однажды на меня залезла крыса, грызет меня, а я очнуться не могу... Получила ранение в концлагере. Когда мы бежали, немцы стреляли. Из-за этого в 1948 году у меня отняли ногу по колено. Нельзя было сохранить...»
Николай Антонович Гончар, попал в детский концентрационный лагерь в Магдебурге: «Нас, детей, заставляли в лагере работать по 10 - 15 часов в сутки на заводе и на уборке города после бомбежек. Травили собаками. Раздевали донага и поливали из брандспойта холодной водой. Разве я смогу когда-нибудь забыть, как малолетних узников, просящих добавку еды, в назидание остальным заставляли силой есть баланду до тех пор, пока они не начинали захлебываться? Из моей памяти никогда не изгладятся боль и страдания, которые принесла война. Мир и светлая материнская любовь - вот что нужно детям».
Владимир Иванович Климович, прошел через три концентрационных лагеря: «Энцесфельд, Соленау. Маутхаузен... Последний - настоящая фабрика смерти, в которой ожидали страшной участи десятки тысяч узников. Лагерь разделен на блоки для разных национальностей. С населением СССР нацисты обходились хуже всего... ...5 мая 1945 года узники были освобождены Красной армией. Сразу после этого мы с ребятами побежали смотреть печи, в которых сжигали людей. За крематорием тянулось поле, на котором виднелось много невысоких холмиков, на них с немецкой точностью обозначено число жертв этого лагеря. Если бы нас не освободили, всем нам суждено быть сожженными».
Лидия Ивановна Шевцова, чуть не погибла в концлагере Бранденбурга: «...Нам сказали, что мы должны пройти дез инфекцию. Приказали раздеться и повели в похожее на барак помещение. Мы почувствовали страшную жару. Я, мама, бабушка и тетя оказались в числе последних. Когда за нами закрылась дверь, пол начал опускаться и люди, как на санках, заскользили вниз, откуда полыхало жаром. Мама одной рукой ухватилась за ручку, другой держала меня. За нас ухватились несколько человек. Долго бы мы не продержались, но пол вдруг начал подниматься. Нас вытащили в коридор и бросили какую-то одежду. Переводчик с улыбкой сказал, что произошла ошибка и „баня“ предназначалась для другой группы. Когда началось наступление наших бойцов, часть узников, в том числе меня и моих родных, погнали в Берлин, а остальных затопили вместе с лагерем...»
Надежда Александровна Кобзарева, узница Озаричского лагеря смерти под открытым небом: «28 февраля 1944-го мы услышали крики на улице. Немцы в белых халатах окружили деревню. У бабушки был погреб из красного кирпича - здесь было укрытие. В это утро семья моего дяди Вани пряталась в погребе. Немец бросил туда гранату. Когда погреб взорвался, все красное поднялось вверх, снег в деревне был белым, а стал красным от кирпичной пыли и крови...
Мама несла Женю, а мы с сестрой держались за нее. С правой стороны дороги сидели пятеро детей, видимо, из местных. Потом увидели мертвую женщину, на которой сидел ребенок. Немец подошел к ним и выстрелил в маленького. Увидев это, мы уже не сомневались, что нас ведут в плен. В Озаричском концлагере не было бараков, лишь редкий лес. Удивительно, но Женька не плакал, только просил „Ка!“, это значит молока. Вокруг холод, голод, болезни, смерть. Люди очень истощены. Однажды немцы привезли хлеб, который, наверное, был заражен тифом. Все жадно хватали этот хлеб. А нам еда уже не нужна была - сил не осталось.
Утром 19 марта я услышала крики. Забор снят, узников освобождали. Из лагеря нас перевели в госпиталь, но люди все равно умирали. У нас были обморожены руки и ноги. Я видела, как молоденькие медсестры чуть ли не дрались, кто будет Женику смазывать ножки лекарством, так им хотелось помочь. А он все просил молока. В день рождения братика я открыла глаза и увидела, что мать держит Женю на руках и плачет. Он умирал... А потом и мама умерла».
Диалог поколений
Живых свидетелей трагедии военных лет уже осталось немного, все они пожилые люди со слабым здоровьем, которые нуждаются во внимании и заботе младшего поколения.
Гомельская общественная организация «Дети войны», созданная 26 лет назад и оказывающая помощь жертвам нацизма, объединила в своих рядах множество людей: малолетних узников фашистских концлагерей, которым в среднем 80 лет, их родных и близких, а также волонтеров, которые сопереживают им и помогают в быту. Многие из узников больны и прикованы к постели. Навещать этих людей, узнавать потребности, и, соответственно, делать все для того, чтобы их жизнь становилась лучше, - главная задача общественной организации.
Руководитель волонтеров Инна Петровна Савчиц родилась в концентрационном лагере в Штутгарте - новорожденную чудом не отняли у матери: среди немцев оказались сердобольные люди. Спасло девочку то, что она была спокойнее остальных малышей. Детей, которые кричали из-за голода или многочасового отсутствия матери, безжалостно убивали.
Инна Петровна считает: не менее важным, чем поддержка бывших узников, является воспитание подрастающего поколения на примере тех, кто увидел смерть и познал голод и лишения.
В рамках программы «Место встречи: диалог» создаются различные проекты в помощь жертвам нацизма, - рассказала Инна Савчиц. - Для улучшения качества их жизни при финансовой поддержке немецкого фонда «Память, ответственность, будущее» и международного общественного объединения «Взаимопонимание» осуществляется важный проект «Надежное плечо», который рассчитан на диалог поколений. Дружеское общение и доверительные отношения между старшим и младшим поколениями, несомненно, приносят огромную пользу. Подростки помогают пожилым овладеть компьютерной грамотой, накануне праздников поздравляют их на дому. Для ребят, в свою очередь, полезны мероприятия воспитательного характера: просмотры патриотических фильмов, экскурсии, важные и нужные беседы о том, к каким трагическим последствиям может привести строительство «нового мирового порядка».


Мы мало знаем о тех, кто побывал в фашистских концлагерях, многое забылось или просто замалчивалось. Огромное количество наших соотечественников были зверски убиты за пределами нашей Родины, в германских концлагерях. Единицы смогли выжить. Я хочу приоткрыть страницы из чудовищной истории концлагерей.
Обратиться к данной теме меня побудил тот факт, что мой прадед и односельчанин были узниками концлагерей. У меня появилась уникальная возможность рассказать со слов очевидцев об условиях, в которых жили люди, находясь в плену у фашистов. Я хочу отдать дань памяти всем тем, кто вытерпел ужасы плена, выжил или погиб в застенках концентрационного лагеря.
Воспоминания моего прадеда Ф.Н. Казакова – узника Бухенвальда.
Мой прадед, Казаков Филипп Николаевич, родился в 1903 году. Вырос в селе Волхонщино, Кондольского района, Пензенской области. В довоенные годы прадед работал в колхозе. Когда началась война, ему исполнилось тридцать восемь лет, он добровольцем ушёл на фронт. Всю войну прошёл пехотинцем. Был награждён орденом Красного знамени и медалью «За отвагу».
В одном из тяжёлых боёв в 1943 году прадед Филипп был тяжело контужен, потерял сознание. Когда пришёл в себя, оказалось, что его вместе с другими солдатами взяли в плен.
Дальше было долгое тяжелое время плена в лагере Бухенвальд. Моя мама, Макеева Людмила Петровна, часто рассказывает мне о том, как прадед был в плену. Фашисты издевались над пленными, кормили очень плохо, настолько скудно, рассказывал дед, что организм переваривал собственное тело. От человека оставались только кожа и кости. Кусок хлеба и жидкая похлебка из гнилых овощей единожды в день – вот весь рацион. Сейчас, когда у нас изобилие продуктов, когда порой мы не бережем созданное, задумываешься над тем, как можно было просто выжить при таком питании, не то, что работать.
Прадед говорил, что в плену ни у кого не было имён, был лишь номер. Заучить свой порядковый номер на немецком языке узник должен был в течение первых суток. Номера пришивались на одежду вместе со специальным значком, указывающим национальность. За цифрами руководство лагеря не видело человека, жизнь которого равнялась росчерку пера.
Родственники спрашивали деда: «Что было самым страшным в концлагере?» Прадед, вздыхая, рассказывал, как фашисты над пленными ставили опыты: людей оперировали без наркоза, удаляли им половые органы, безжалостно стерилизовали и кастрировали, иногда с помощью рентгеновских лучей. Заключенные проверялись на способность выдержать низкое атмосферное давление и низкие температуры. Убивали заключенных посредством неизвестных уколов в сердце.
Иногда солдаты не выдерживали пыток. Некоторые переходили на сторону врага, многие пытались бежать из плена. Если кто-то бежал, рассказывал прадед, то всех заключенных из его блока убивали. Это был весьма действенный метод препятствовать попыткам бегства. «Чтобы другим неповадно было»,- говорил прадед Филипп.

Шло время, наша армия продвигалась на Запад, немецкие войска отступали. Для пленников концлагеря это означало, с одной стороны, надежду на освобождение, а с другой – ожидание смерти. Немцы, узнав о том, что советские войска продвигаются к Германии, решили уничтожить всех узников концлагеря. Чтобы замести следы, фашисты начали сжигать пленников в крематории. По словам прадеда, крематорий был самым страшным местом в лагере – «стоглавым чудовищем», похищавшим людей. Обычно туда приглашали заключённых под предлогом осмотра у врача, когда человек раздевался, ему стреляли в спину. Таким способом в лагере были убиты многие тысячи узников.
Перед приходом наших войск наступил момент, когда мой прадед уже попрощался с жизнью, близилась и его очередь отправиться в крематорий. Но, каким было счастье тех, кто услышал русскоязычную речь! Оказалось, что советские солдаты захватили концлагерь и спасли пленников от неминуемой смерти. Прадед чудом остался жив! Уже после войны много раз приходилось слышать от него такую фразу: «Видимо, в рубашке родился».
Оставшихся в живых пленников, от которых осталась кожа да кости, отправили в госпиталь. После госпиталя прадед вернулся домой – к жене и детям. Снова стал работать в колхозе. Часто давали о себе знать контузия и старые раны, от которых он вскоре ослеп, а потом был парализован. Несмотря на то, что прадед стал инвалидом, он не терял оптимизма. Всегда был бодр духом, рассказывал много историй, внушал детям только самое доброе, призывал к тому, чтобы мы, его потомки, ценили жизнь.
Идут годы, зарастают травой окопы, но не зарастают душевные раны. Всё меньше остаётся живых свидетелей той страшной войны. Вот и в нашем селе Ключи не осталось ни одного ветерана…
Каждый год в День Победы у монумента Славы, что находится на территории школы, проходит митинг памяти всех тех, кто не вернулся с полей сражений. Каждый год к подножию монумента возлагаются цветы. И я вместе со всеми тоже возлагаю цветы. Здесь среди многих фамилий есть и фамилия моего прадеда по папиной линии, Макеева Николая Ивановича, которым я очень горжусь, чьей памятью очень дорожу.
После митинга я вместе со своей семьей еду на могилу другого прадеда, Казакова Филиппа Николаевича, чтобы почтить и его память, положить к изголовью живые цветы. Память о моих прадедах будет жить вечно, я очень горжусь ими!
Воспоминания Новосельцева А.И. – узника лагеря Вырица.
Мой односельчанин – Новосельцев Анатолий Иванович, 1941 года рождения, попал в плен вместе со своей матерью и старшей сестрой в 1942 году. Сегодня Анатолий Иванович проживает у своей дочери в селе Чунаки, он прикован к постели.
Со своим классным руководителем мы побывали у него в гостях. Анатолий Иванович рассказал, что в плен он попал совсем ребёнком и мало что помнит. Но детская память сохранила ужасы немецкого плена.
В 1942 году на базе дома отдыха Ленинградской швейной фабрики во время оккупации поселка Вырица фашисты устроили лагерь принудительного труда для советских детей. Немецкие оккупационные власти насильно свозили туда детей из зоны ожесточённых боев под Ленинградом. Лагерь был обнесен колючей проволокой и забором. Детей предупреждали, что за уход из лагеря полагается расстрел. С десяти лет гоняли на работу на поля, в лес, в овощехранилище. А кормили похлебкой из турнепса. Иногда приходил врач, делал нам уколы с неизвестной целью.
Самое страшное, по словам Анатолия Ивановича, было то, когда его отнимали у матери. Анатолий Иванович помнит только рассказы сестры: «Нас привезли в Вырицу, отобрали от мамы и пускали ее только для того, чтобы покормить грудью младшего Толю». У многих детей, действительно, были матери, но это не помогало им избежать лагеря. Свиданий не полагалось. Порою, вспоминает сестра, измученные дети пытались убежать к матери: из лагеря можно было уйти через Оредеж, тогда неглубокую, узкую речку; дети перепрыгивали с камня на камень, иногда падали, тонули. А если и спасались, то потом их всё равно настигала облава: детей плётками гнали обратно и сажали на ночь в карцер-подвал, где было темно и сыро, бегали крысы.
В конце 1943 года немцы заспешили: нужно было убираться из Вырицы, чтобы не очутиться в «котле». С собой забирали всё ценное, всё ненужное бросали. В лагере ценными посчитали тех детей, что постарше и поздоровей: их вместе с матерями (у кого они были) погнали в Германию; остальных - тех, что помладше и послабей, перевели в новое здание - «детский дом». Зимой Вырицу освободили; первой в посёлок вошла группа разведчиков. Разведчики и обнаружили этот новый «детдом», где в подвале прятались человек тридцать детей - совсем маленьких, едва живых от голода, болезней и страха. Их вымыли, накормили и отправили в настоящий детдом – Шлиссельбургский.

Наш собеседник плохо помнит, как его спасли и как он остался жив. Многое ему рассказывала старшая сестра. Именно она находит его после войны, матери в живых уже не было. Помнит Анатолий Иванович лишь натруженные руки солдата, который на руках его вынес из барака. Дальше был детский дом. Уже в 1990-х годах неожиданно для самого себя Анатолий Иванович получил денежное «вознаграждение» от немецкого правительства.
Жизнь узников концлагерей была трагичной даже после войны. С подачи Сталина, на них закрепилось клеймо «предатели». По возможности они меняли фамилии и давали себе обет молчания на всю оставшуюся жизнь. Эта страница истории была наглухо закрыта. Но это вовсе не значит, что мы не должны об этом знать.
Судьбы узников концлагерей очень поучительны для нас и сегодня. Это поколение восхищает своей стойкостью духа. Страницы истории концлагерей взывают нас делать всё возможное, чтобы люди никогда больше не испытывали ужаса фашизма.
Источники:
- Мельникова Д., Чёрная Л. Империя смерти. М.: Изд-во политической литературы, 1988.
- Мацуленко В.А. Великая Победа //История. 1985. № 4.
- Архивные материалы краеведческого музея с. Малая Сердоба.
- Семейные архивы семьи Казаковых и Новосельцевых.
(Филиал МБОУ «Многопрофильный лицей» с. Малая Сердоба в с.Ключи)
Примечание редактора: В фильме «Находки семейных архивов» фрагмент данной работы был озвучен как эпизод «Освобождение».
До войны я жила в г. Ростове. Училась в новой красивой школе № 52. Участвовала в школьной самодеятельности, с 6 класса была пионервожатой. Ходили на экскурсии, в походы. Детство у меня было очень счастливое. Родители мои были простые рабочие, сестра работала бухгалтером в Ростгорстрое. И жили мы не бедно. Когда началась война, мне было 15 лет, я училась в 7 классе. Нашу школу взяли под госпиталь, а нас перевели в 43, в третью смену, с 7 до 12 часов ночи. С 12 часов шли занимать очередь за хлебом и другими продуктами. На уроках часто засыпали. Мы дети ночью в очередях, а родители готовили поесть на день, днем бомбежки не давали покоя. В бомбежку погибла моя двадцатилетняя сестра. Фашисты захватили Ростов 23 июля, а отца убили 24 июля, как мишень с пожарной вышки. Мы остались вдвоем с мамой. Фашисты стали угонять молодежь в рабство.
11 октября 1942 года шестым транспортом угнали и меня. Уже в телячьих вагонах мы складывали стихи, прощаясь с Ростовом: «Нас в вагоны посадили, двери наглухо закрыли, и прощай свободная страна». Мы надеялись, что нас освободят партизаны, было такое счастье, но этого не случилось. Жили надеждой на освобождение, верили в Победу.
Привезли нас в г. Познань - пересылочный пункт. Выгнали во двор, как рабов, как скот. Съехались помещики, хозяева, стали отбирать, осматривать. Я пряталась и не выходила на это позорное зрелище. Оставшихся нас увезли в Германию на военный завод. Поселили нас в лагере, построенном из деревянных бараков, обнесенном колючей сеткой. На работу возили нас мастера с завода. В какой стороне я не знаю, населения близко не было, видно за городом. Да мы не очень интересовались. Работали по 10 часов. Кормили похлебкой на заводе, в лагере то же и кусочек хлеба. Мы протестовали, против такого питания, но нас строго предупредили, может быть хуже. На октябрьские праздники, нам особенно было трудно. Вдали от Родины и родных. На работу шли, пели «Интернационал», - нам не дали обеда. С работы тоже пели - не дали ужина. Работала я за станком, передо мною шел конвеер с лейками с резьбою для снарядов. Я снимала, вставляла, рядом девушка ввинчивала. Кто подвозил, кто увозил, точно не помню, человек до 20 было в цеху. У станка стоял немец заливал в снаряды взрывчатку. Он нам показывал документ, выданный немецкими властями на вечное пользование землею на Украине. Когда нас привели в цех, там уже работали советские девушки с западной Украины и Белоруссии. И действовала подпольная организация. Немец часто отлучался от станка, доверял старым рабочим, они проработали вместе по шесть, восемь месяцев. Тогда была команда - быстрее девушки. И мы старались. Не заливали взрывчатку, отправляли порожние гильзы. Проработала я 18 дней. 11 ноября начались аресты. Нам троим самым молодым, мне было 16 лет, устроили побег с лагеря. До станции мы добрались ночью благополучно. Сели в первый попавший поезд. Лишь бы подальше от места. С такой целью якобы бежали от помещика. Утром нас обнаружили и отправили в гестапо. Там нас допрашивали, били резиновыми плетками, почему бежали с завода? Отвечали, что мы на заводе не были, а у бауэра. У какого? По молодости мы не были подготовлены и запутались. Нас отправили в тюрьму г. Галий. Сначала нас поместили троих в одну одиночную камеру, потом перевели в обшую. В небольшую комнатушку набили 40 человек, негде было сесть, спали поочереди. На завтрак давали стакан кофе с горелого ячменя, в обед баланда и кусочек черного хлеба. Мы думали - это конец, не выживем и не выберемся оттуда. И только чувство гордости придавало нам силы. В 16 лет политическая заключенная! Раз в день выводили нас на прогулку во двор, где можно было увидеть окна четырехэтажной тюрьмы, да кусочек неба. Были мы в тюрьме два месяца, потом отправили нас в концлагерь Освенцим, тогда он назывался Аушвиц. 15 января 1943 года, часов в пять утра мы вошли в лагерь, он был уже на ногах, лагерь был освещен, как на ладони. Вокруг лагеря стояли вышки, с прожекторами и охраной. Лагерь был обнесен колючей проволокой под высоким напряжением, везде висели фонари. Мы ничего не могли понять. Везде лежали замершие трупы во всех позах. Кое-где еще живые, что-то бормотали на непонятном языке. По лагерю передвигались живые трупы, а их били палками, куда-то гнали. Встал перед глазами ужасный кошмар. Ввели нас в большое каменное помещение, приказали снять одежду и обувь и стояли мы на цементированном полу в нетопленном помещении. Пока нас всех обстригли, а было нас до тысячи, мы так замерзли, очень обрадовались теплой бане. Нас стали загонять немки палками, под самый потолок по ступенькам. Лили воду на раскаленную плиту. Мы стали задыхаться от пара, бросались вниз, а нас палками загоняли вверх, подбавляя пару. Открыли дверь и мы бросились в душевую, где была абсолютно холодная январская вода в суровую зиму. Мы с визгом и криком прижимались к стене, а нас палками гнали под душ. В три ряда на всю длину помещения, и негде было спрятаться. Не знаю, сколько мы шарахались и метались, казалось, что не будет конца той пытки, пока нам открыли дверь. Мы бросились опять в то же холодное помещение. Там нам стали выкалывать номера на левой руке. Наподобие авторучки заправленой тушью. Мне выкололи 28735. С тех пор мы уже не знали не имени, не фамилии, мы не были люди, а скот. Никто к нам по-человечески не обращался. Все отношения и объяснения были не на языке, а на палке. Потом нам выдали полосатую робу, деревянные колодки, чулки и полушерстяную комику - кофточку. Отвели нас в барак уже часов в одиннадцать ночи. За день мы так измучились, перемерзли, целый день нас не кормили, а когда мы вошли в барак, пропала охота и жить. Это были конские кирпичные сараи, без потолка. Через черепицу дул ветер со снегом. Дверь не закрывается от снежных заносов, скрепит от ветра. Нас как новеньких положили возле двери. Конские стойла перебили досками вроде нар и загоняли по 8-10 человек. Ни матрацев, ни соломы на голых досках, два одеяла байковые и не отапливается помещение. Вот тогда мы познали весь ужас лагеря смерти. Я так кричала, звала мамочку посмотреть на мои муки и папочку звала забрать меня к себе, чтобы быстрее отмучилась. Меня никто не успокаивал, не утешал, везде слышался плач и стоны больных. А кто уже умер, стягивали с нар и ложили здесь же на проходе, до утра. Утром, когда ходячих угоняли на работу, в лагерь въезжала машина и увозила мертвых и тех, кто уже не мог встать, в крематорию. В три часа ночи нас погнали на кухню за кофем. Кипяток и горячий ячмень. Принесли 3 бидона, а в бараке до тысячи человек, мало кому попадет, а так хотелось горяченького. В пять утра нас выгоняют на цель-апэль - перекличку. Все сразу не можем выйти в одни двери, а капо кричат, гонят палками, бьют по чем попало, мы стараемся избежать ударов, все спешат, спотыкаемся через трупы, в дверях давка, кто упал - добьют капо. Капо - это старшая над заключенными, тоже заключенная, большинство немки. Им дано право бить, убивать и чем больше, тем лучше. В нашем бараке была немка капо. У нее погибло два брата в России, так она на весь барак кричала: «Русские, я за одного брата сто русских уложу». Выгонят нас на мороз, голодных, полураздетых, пересчитают и стоим мы до восьми, пока развиднется на вытяжку рук, чтобы не приближаться, не согревать друг друга. А сами заберутся в штаб лагерный и сидят в тепле и сытые. Капо в концлагере - это настоящие палачи. Тем, которые гоняли нас на работу, дают наряд, сколько человек набрать в команду. Они хватают, одна к себе тянет, другая к себе. Нас никто не спрашивает, дергают, толкают, палками бъют, а мы головы защищаем от ударов. Мы еще не понимаем всего ужаса, шарахаемся со стороны в сторону, не зная, чего они от нас хотят. Гоняли нас на работу в поле - команда «ландвершафт», зимой разравнивали бугры кирками и лопатами. В «лесвалый» - команда - таскали бревна и хворост. Зимой гоняли на торфоразработку, разбивать дома польских жителей, которых угнали в Германию. Я попала дом разбивать, целый день на холоде, кирпичи носили голыми руками. Охрана возле костров с собаками и капо, греются, а нас и близко не подпускают. В дороге только мы немного согрелись. Гоняли далеко, на колодки набивалось снега, чтобы избавиться - надо ударить одна об другую. Часто разбивались, а других не давали. Обмотают тряпьем, ноги распухнут, потрескаются, оставляя кровавый след на снегу. На третий день нас повели в мужской лагерь два километра. Фотографировали, снимали отпечатки пальцев. Когда мы выходили с лагеря, оттуда выезжали машины бортовые набитые людьми, до того набиты, что головы лежали на бортах, на головах сидели. До того худые и слабые - не могли стоять. Они прощались с нами: «Прощайте, девочки!». Их везли в крематорию, и они знали. Кормили нас 1 раз в день. После работы, в бараке похлебка и кусочек хлеба напополам с опилками. Уже когда я была в музее Освенцим, тогда я узнала, что мы получали 27 колорий в день, а положено 480. Сразу слабели, заболевали. К тому же еще вши заедали. На работе били нас, чтобы мы не искали вши. Без конца слышны выкрики «арбайт – лес». А с работы придем уже темно. В бараке света не было, кто-нибудь достанет свечку и лезем искать вши, а что увидишь на серой робе. В воскресенье на работу нас не гоняли. Один раз пересчитают, обед получили и беремся за вшей. На восемь человек давали нам два одеяла, ложились на голые доски, прижимались друг к другу, а с одеял на лицо сыпались вши. Каждая запасалась по два голыша, брали вши щепотками и голышами били. В лагере умирали от тифа. Ко всему этому ужасу, нашей охране и капо, давали план: сколько убить человек за день. Выбирали жертву, начинают придираться, травить собаками, добивали до смерти. После работы несем трупы на полках в конце колонны. Помню я шла в первом ряду другой колонны, чего-то остановились, а женщина на носилках еще живая, подняла голову, вся избитая в крови, а капо, как ударит ее палкой по лицу, кровь так и брызнула на меня. Нам перевели один разговор между охраной, хорват спрашивает немца: «Неужели вам не жалко, ведь это же люди?» Немец отвечает: «Если бы я, хоть на минуту представил, что это люди, я бы с ума сошел». Нас били, убивали, это была фабрика смерти. Четыре крематория день и ночь пылали, сжигая человеческие жизни. А мы рассыпали по полю пепел, как удобрение. Иногда привезут почти не пережженный, так и лежат кости на дорогах. Вся лагерная территория усыпана человеческими костями. Ночью слышим, въезжает в лагерь машина, а нас, как в лихорадке трясет. Знаем, к какому-то бараку подъедет, и за ночь всех вывезут в крематорий. Часто делали отбор. Идут команды с работы, а немки стоят с палками в два ряда возле ворот. Нас пропускают по одному. Мы бежали по этой шеренге, а они палками бьют, кто упал, тут же бросают в машину и в крематорий. А возле ворот духовой оркестр играет марш и провожая на работу слабых, больных, и встречая с трупами. Иногда наш лагерный врач, проходил во время цель-апэля каждую прощупывал взглядом. На кого укажет пальцем – выходи, это в крематорий. Стоишь и дрожишь от его взгляда, смотреть на него страшно. Одна из нас троих умерла. В лагере воды не было. За двадцать месяцев один раз нас купали в декабре, выгнали всех с бараков, здесь же бросали нашу одежду в машину дезинфекцию делали, мы стояли совсем нагие на холоде. Нас отобрали 30 человек и погнали на работу к помещику. Поработала я дней десять и заболела. Высокая температура, бред. Меня уводили с лагеря. То ли капо привыкла, то ли молодость, но на работе меня не била и разрешала полежать, это было в конце марта. А однажды отвела меня в лагерную больницу. В лагере была больница, столько было больных, трудно было попасть. А капо хватали от больничных ворот и гнали на работу. Я помню, в больнице чем-то намазали мне голову, шею и под руками. И вши полезли по лицу, я отмахивалась от них. Во время болезни я не могла их уничтожать, они разъели мне шею и под руками, меня положили на третий этаж нар, а на первом кто был без сознания, крысы съедали заживо. Не знаю, сколько я была без сознания, а когда пришла в себя, в ногах у меня лежали две полячки, на одних нарах трое. От высокой температуры язык и губы потрескались, кровоточили. На работу давали редкую похлебку, а в больнице кашу. Утром и вечером стакан чая. Воды нигде не было. Было очень мучительно, ждать с утра до вечера, с вечера до утра 1 стакан чая. Все время бредишь водою, снится вода. Везде стоны: «пить, воды». Лечения абсолютно никакого, только на работу не гоняли. Русская женщина родила мальчика. Врач пришел, взял за ножки ударил головкой об нары и бросил. Это было ужасно. До сих пор не могу забыть душераздирающий крик матери. Не суждено было умереть от тифа. В лагере был барак с детьми. На работу их не гоняли. Когда я побывала в музее Освенцим, узнала: дети были больше близнецы, служили для лагерных врачей, как эксперимент. Немцы хотели, чтобы немки рожали двойни. Многим не было пяти лет. Из трех тысяч, освободили 180 детей, как они могли выжить в этом аду. С больницы я попала в команду ландвер-шафт - полеводческая. Сажали, убирали картофель, убирали рожь, ячмень. Летом мы не так испытывали голод. Ели все, что можно было жевать: сырой картофель, сухой ячмень, траву. Я опять заболела. В 1944 году, летом, мы мучились от жажды. Воды нигде не было в лагере, только на кухне, а там были немки, и доступа нам не было. Когда вели нас на работу, в кюветах вода, некоторые бросались с котелками, на них травили собак. На работу привозили воду, давали норму. Летом мы задыхались без воды. После болезни меня направили в команду при лагере дезинфицировать одежду снятую с узников. Тогда я увидела еще одно ужасное фашистское злодеяние. Лагерь Освенцим имеет форму буквой «П». По одну сторону два рабочих лагеря, по другую два лагеря - Ц - еврейский и фамилийный, цыганский. Между лагерями въезжал состав с узниками. Тогда по лагерю бегают капо, загоняют всех, кто в лагере, в барак – «лагерь руэ и блок – шпереи», в лагере тишина и бараки на запоре. Мы работали в помещении напротив окна, все видели. В 1944 году фашисты особенно уничтожали евреев и цыган. Выгоняют из вагонов, вещи бросают в кучу, а их выстраивают по пять. А посреди дороги стоял лагерный врач Менгем, длинный в перчатках. Мимо него проходят обреченные, а он рукой показывает: кому в лагерь, кто помоложе на работу, а стариков и женщин с детьми направляет в крематорию. Один представительный пожилой мужчина, остановился возле врача и показывает ему документы, наверное, заслуги или ученость. Немец посмотрел все внимательно, отдал ему документы и направил в крематорию. А он снял шляпу и кланяется ему, благодарит. Им говорили, что везут работать на фабрику. Со стороны крематорий имел вид фабрики. Столько везли обреченных, что не успевали сразу сжигать, отправляли их в лагерь Ц и Фамилийный. Через проволоку все видно, в лагере полно народу, играют дети. Иногда выйдешь с барака ночью, а с еврейского лагеря гонят голых женщин и детей в крематорий. Идут, зная куда, без крика и шума. Не у кого молить помощи, одни палачи, конвоиры да собака. 30 км, лагерная территория, никто не услышит, никто не увидит. Фашисты не успевали сжигать в газовых камерах людей. Возили из лесу дрова и перекладывали трупы задушенных газом людей, обливали горючим, поджигали огнеметом. Военнопленных советских, хилых, бросали в ров и закапывали. Кровь ручьем бежала с холма могилы. Ужасались откуда с костей и кожи еще столько крови. Все злодеяния они делали с великой тайной. Думали, нас - очевидцев уничтожат, и мир не узнает правды об ужасах лагерей смерти. К нам придирались, если услышат: «крематория». Но однажды большая радость потрясла весь лагерь. У нас было два рабочих лагеря. Один полностью гоняли на работу, а в другом были кухня, больница, барак разнорабочих и меня перевели в дезинфекционную команду, жила в этом же бараке. А подружки мои остались в другом лагере - через ворота. Ворота не закрывались днем, только стояла капо и не пускала с лагеря в лагерь. Но мы ухитрялись пробежать на часок повидаться. Однажды наше начальство забегало. Ждали каких-то представителей с Берлина. Это было в июне 1944 года. Я подошла к воротам, а тут едут легковые машины с немцами высокие чины. В это время одна русская пробегала в тот лагерь. Капо схватила ее и давай бить палкой. Машина остановилась, вышел немец спросил, за, что она ее бьет? Та ответила, а он говорит «А какая разница? Лагерь-то общий», и ударил ее в лицо. Мы так удивились, такой чин, немец и заступился за русскую. Побывали они в лагерном штабе, проверили, пересмотрели документы и уехали. А вскорости, приехали еще представители с Берлина. Какой был переполох! Охрана переполошилась, послали погоню, но тщетно. Это были партизаны. Мы так обрадовались, если мы не выживем, то за наши муки и страдания узнает весь мир. Мы все были обречены, в наших документах ставили две буквы – «возврату не подлежит». Это приговор - означавший более страшное, чем расстрел. Когда я была в 1979 году в музее Освенцим, экскурсовод говорила: самый страшный лагерь из лагерей смерти - это Освенцим. В лагерях смерти, погибло более 10 миллионов человек. В лагере смерти Освенцим более 4-х миллионов было замучено и сожжено. Не многим выпало счастье вырваться с этого ада.
19 июля 1944 года приехал с Франции вербовщик, надо было отобрать пятьсот человек с 18 до 30 лет. Мне в Освенциме исполнилось 17 и 18 лет. Я очень обрадовалась, когда на меня указали выходить со строя. Переодели нас в полотняные платья и фартучки. Обувь мы выбирали в сарае, там ее тысячи пар. Дали нам одну булку хлеба на три дня. Мы ее сразу съели и ехали без еды и воды, в битком набитом телячьем вагоне, наглухо закрытом. Когда нам приказали выходить, мы падали от слабости. Шли в лагерь, поддерживая друг друга. В лагере нас покормили сразу и отвели в бараки. Здесь нам показался рай. Сразу мы вымылись, нас тщательно продезинфицировали. На каждого одни нары, соломенный матрац и байковое одеяло и вшей не было. Три дня нас не гоняли на работу, очень были слабые. Потом нас повели на работу через весь город, по 30 человек, под усиленной охраной - конвой с автоматами и собаками. Все останавливались, смотрели на нас, худых, истощенных и все плакали от жалости. Ведь всем нам было по 18 и немного больше двадцати лет. За тридцать в Освенциме не выживали. А мы плакали, что столько пережили, перестрадали, сколько потеряли загубленных друзей. А люди живут, ходят без конвоя, даже улыбаются. А мы всего того лишены, только голод, холод, побои. И не знаем, что еще ждет нас впереди. Пригнали нас на военный завод. Обтачивать ржавые гильзы, не знаю зачем. Станок не выключался, надо было умело, быстро вставить гильзу, чтобы резец снял ржавчину. Нас обучали мастера-французы. Нас когда пригоняли на работу, мы всегда находили то яблоки, то кусочек хлеба. Это французы оставляли для нас с большим риском. Ведь им не разрешалось с нами разговаривать. На первой неделе работы неудача. Неумело вставила гильзу, она не попала во вращающийся винт, затарабанила в станке. Я схватила гильзу, а резец меня по пальцам, мастер-француз выхватил мою окровавленную руку и в медпункт. Меня освободили от работы. Я находилась в лагере. В 1944 году англо-американцы начали наступление.
15 августа ночью нам выдали по булке хлеба и угнали с лагеря. Шли мы всю ночь. Когда развиднелось, мы увидели, что нас заключенных гнали в конце колонны, а впереди армия с орудиями отступала. В конце дня налетели американские самолеты со звездочками на крыльях, только белые и начали бомбить колонну. Все бросились врассыпную. А мы, куда глаза глядят, назад - подальше от конвоя. Было картофельное поле, мы ползком от взрывов. А когда мы остановились, было уже темно, только в стороне еще что-то рвалось и горело. Шли мы всю ночь, набрели на яблоневый сад, наелись и полные фартуки нарвали, про запас. Шли, и не верилось, что нет конвоя, не лают собаки, нет капо. Зашли втроем на кладбище, обошли, посмотрели, какие у них памятники, какая чистота, было лунно. И не было страшно, после Освенцима. К рассвету подошли к деревне. Побоялись заходить, залезли в солому и уснули. Сутки сидели в соломе. Яблоки кончились, мы пошли в село, хотя боялись полиции. Полиции не было, мы стали проситься к французам на работу за харчи. Одну взяли, а я просила Галю не бросать меня, кто возьмет меня на работу с больной рукой. Водили нас дети от дома к дому. Но видно у них тоже не было лишнего, нас не брали. Уже темнело, мы залезли в гумно на ячмень скошенный, думали: переночуем, утром пойдем в другое село, может, кто возьмет. Мнем ячмень и едим, а дети смотрят. Потом разбежались. Принесли нам яичек, хлеба, картошки, яблок. Дети знали, что мы русские, а с какой любовью и вниманием целый день водились с нами, только не знали, что мы голодные. Очень хотелось есть, и такого изобилия пищи мы давно не видели. За нами пришел старик, забрал к себе. Зашли в дом, они ужинали. На столе самовар, белый хлеб, порезанный тоненькими кусочками, варенье. Нам налили по два стакана чая и по два кусочка хлеба. Спрашивали, еще? Мы отказались, стыдно, хотя съели бы по булке. Спали мы на сеновале в сарае на белых простынях и очень жалели, что у нас забрали продукты. Очень хотелось есть. Прожили мы у них двое суток. Семья у них была: отец 72 года, его сестра 74 года, сын Макс 36 лет, его жена Анна и сынишка 9 лет. Нас познакомили с их матерью. Она лежала в спальне больная, вся красная, кое-где белые пятна. У них была своя мельница. Галя помогала по дому, а я одной рукой, крольчатники чистила. Макс говорил: «Гитлер Kaпут, скоро домой уедите». На второй день вечером Макс пришел и говорит: «Американцы отступили, немцы вернулись, повесили приказ, кто не выдаст заключенных - тому смерть». Я, наверное, побледнела. Нас стали успокаивать. Поужинайте и на сеновал, скоро Гитлер капут. Еще не сели за стол, зашли немцы. Нас стали бить прикладами, а на них кричать: зачем они нас переодели и приютили. Мы переодеваемся, а французы плачут, как за родными. Мы были не живы, не мертвы, а нас бьют. Дали нам большую булку белого хлеба и кусок сала. Немцы у нас забрали, мы только вышли за село. А там уже было 36 человек, выловили. Всего убежало 80 человек. Нас привезли в концлагерь Равенсбрюк. И началось все сначала: побои, голод, холод, цельапэль. Только не было крематории, это не так угнетало. Работа там, в основном, раскорчевывали пни.
В Равенсбрюке я видела жену и дочь Тельмана. Относились к ним в лагере с уважением. Близкого знакомства я не искала, стеснялась. Да и не думала, что когда-либо, коснется разговор о них. Не знали, что еще будет с нами. А слышалась уже далекая канонада. Хотя тайно узнавали радостные вести, что фронт уже близко. Да и отношения со стороны конвоя и кaпo изменились. Не стали нас так бить. Воды в Равенсбрюке было вволю. Можно было умываться.
А с питанием совсем было последние месяцы плохо. Доставки не было. Нам давали 100 грамм хлеба и кружечку вареной крапивы без зажарки и картошки. На работу нас уже не гоняли. Вылезем с бараков и лежим. От голода начали пухнуть. Мы уже не
могли подыматься на нары от слабости. В конце апреля, ночью нас всех выгнали отступать. На ночь загоняли в сараи. Иногда мы в сараях находили сырые буряки и картошку. Шли, поддерживая друг друга, сил не было. Кто падал, того пристреливали конвоиры, это приказ. По дорогам лежали трупы, никто их не убирал. Немцев - жителей почти не было - убегали. Однажды нас загнали на ночь в сарай, на воротах два немца охраняли. На рассвете моя подружка меня разбудила, говорит: «Я зашла за сарай и вернулась, а немцы спят. Иди, за сараем рожь и лес видно, а за тобою Дора, потом я». Мы тихонько вышли, доползли до леска, и пошли назад к фронту. Подошли к селу, заходить побоялись и нигде никого на дороге. Очень хотелось есть. Зашли на картофельное поле, выкапываем руками, зубами чистим и едим. Смотрим, едет к нам мужчина на велосипеде. Мы не убежали, мы не были в полосатой робе, а в платьях с крестами на спине, масляной краской. Сидели - крестов не видно. Вера с Харькова немножко говорила по-немецки. Это был француз, мы ему рассказали кто мы, он дал нам плитку шоколада и коробку изюма. Посоветовал нам: за леском усадьба помещика, у него работают пять русских девушек и четыре француза, они вас приютят. Скоро Гитлер капут. Нас накормили, помылись, переночевали. А утром девушки сказали, чтобы мы уходили в лес. Помещик еще не эвакуировался, вдруг заявит кто вы, нас расстреляют. Говорят: «Мы картошку садим, берите ночью, а воду мы вам будем носить». Мы ушли с удовольствием, мы видели, как они боялись за лишнюю обузу. Дали они нам мешочек соли и спичек. В обед они принесли нам в двухметровой банке супа и банку воды и больше не приходили. Днем мы видели русские, немцы и французы сажали картошку. А ночью мы ходили, брали с кучи, а днем пекли, варить не было воды. Очень хотелось воды, К русским не обращались из-за гордости, они знали, что мы без воды. Сами пошли искать по лесу. Вода была зеленоватая от плесени, в воронках из-под бомб, но пить можно. Мы ко всему привыкли. Однажды нас посетили французы и принесли ведро вареной картошки. Мы не признались, что воруем и едим картошку вволю. Французы нам сказали, что фронт уже совсем близко. Мы и сами слышали орудийную стрельбу и взрывы. Мы так радовались каждому взрыву, нашему освобождению. Мы далеко в лес боялись углубляться. Наносили хворосту, наложили повыше угольником и постель с хвороста сделали. Ночью было очень холодно. Мы разгребали жар и садились кружком грелись. 30 апреля 1945 года смотрим, через хворост по картофельному полю к леску движутся немцы. Идут и пушки везут и кухню. А тут налетели наши самолеты, и давай лес обстреливать. Сколько было радости, за сколько лет увидели наши советские самолеты с красными звездочками на крыльях. И никогда, кажется, так не было страшно умирать, погибнуть от своих, столько перестрадав от немцев. А самолеты заходят, да строчат, а пули свистят, и спрятаться негде. Смотрим, немцы бегают, суетятся. Мы решили, что будет, но идем к усадьбе помещика. Пройти почти мимо немцев и выходить из леса было очень страшно, другого выхода не было. Мы прошли, никто нас не остановил, да мы не смотрели в их сторону, а им, наверное, было не до нас. В усадьбе никого. Мы вошли в первую попавшую комнатушку. Догадались - французское, две кровати на четверых и на лавке ведро вареной картошки, наверное, нам приготовили в лес, да не успели, угнали в эвакуацию. Нашли в столе шкурку с поросенка. Сдираем жирок и едим с картошкой. А тут началось наступление. Смотрим, с леса немцы бегут. Как начали снаряды рваться, мы отошли от окна. Кажется, горела земля и небо. А мы стояли, прислонясь к стене, в ожидании чего-то великого, даже не было страшно. Вдруг, слышим, сквозь взрывы и грохот, крики, и въезжает танк наш советский, и солдаты бегут наши родные и кричат: «Ура!». Мы выскочили, бросились на шею, первому попавшему, кричали от радости, плакали, целовали. Они нас успокаивали, оттягивали от себя, были грязные, потные. Наверное, не первых они таких мучеников освобождали. Передовая ушла дальше. Пришли наши другие, расположились на ночь в усадьбе. Расспрашивали нас, удивлялись, до чего можно довести человека, кожа да кости. Три дня проходили через усадьбу наши. Потом вернулись немцы рабочие, которые работали у помещика. Солдаты согнали помещичьих коров 36 штук, они давно были не доены. Они сами их раздаивали и нас городских учили. Когда вернулись немцы, стали нас отпаивать молоком. Наши освободители оставили нам множество продуктов. Консервы рыбные, тушенку, сухарей, сахару. Убили нам кабанчика, их бросил помещик не мало. Прожили мы в усадьбе 14 дней, потом комендант прислал за нами машину. Отправили на сборочный пункт. Там было восемь тысяч человек, жили в лесу, в бывших немецких блиндажах под сильной охраной. Прошли мы там проверку особого отдела. Они очень удивлялись, что мы неделю жили в лесу, три измученные девчонки, когда леса кипели фашистскими мстителями и власовцами. Выдали нам хорошие документы, нас было только три концлагерниц на восемь тысяч. Прожили мы на сборочном пункте два с половиной месяца. Ждали отправки на Родину. Кормили нас супом и кашей, только пахло керосином. Немцы налили керосина в постное масло. Кто лучше жил, плакали, не ели, а мы рады были, что кормили вволю, да радовались, глядя друг на друга, как мы полнели. Потом нас троих концлагерниц отправили в Берлин на колбасную фабрику. Там были все свои. Директор фабрики был капитан, кладовщик, шофера - все были наши, военврач и повара, только немцы были мастера, да рабочие. Мы обрезали мясо от костей. Работа легкая, зато питались, птичьего молока только не было. Когда нас привезли и взвесили, у меня было 53 кг. Это уже после трехмесячного освобождения, а через два месяца на колбасной фабрике у меня было 72 кг. Мы все просились на Родину, но не было приказа. Тем более, что мои подружки уже получали письма из дома. Вера с Харькова и Дора с Винницкой области. А я ни одного письма не получила с Ростова, и неизвестность меня еще больше мучила. Однажды нам объявили, что желающие могут ехать на Родину, мы с радостью бросили все блага и, как мы мечтали: «Я с германской землей не прощусь, а на Родину, к родненькой маме, хоть пешком, но скорее примчусь». Как мы были рады, как мы ждали этого дня. И вот, 5 октября 1945 года, ровно через три года, я в Ростове. Где мы жили - и места не осталось, все сгорело от зажигательных бомб, маму забрал брат на Кубань в ст. Петровскую. По возвращению, забрал меня к себе и к маме. О нашей встрече с мамой и так ясно, сколько было радости, и сколько было слез, когда я рассказывала, что я выстрадала. А маме тоже было нелегко от неизвестности обо мне. Поступила я в швейную. Время было трудное, учиться не было возможности, да и вечерней школы не было. Работала в КБО бригадиром верхней одежды, а с 1974 года работаю в Райкиносети кассиром. Смотрю я на своих внучат - их трое, и радуюсь их счастливому детству. И вспоминаю тех замученных деточек в Освенциме, страх и ужас в их глазах. Память цепкая, никто не забыт, ничто не забыто. И без конца повторяешь: хотя бы не было войны, хотя бы не повторился Освенцим. Пусть над детьми всей планеты, будет всегда светить яркое солнце и чистое небо.